
23.12.15
Вячеслав Рыбаков
Доктор исторических
наук.
Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского Института восточных
рукописей РАН, специалист по средневековому Китаю

Вот примерно так работают и остальные традиционные, неостановимые
регуляторы, порой противодействуя одни другим, но вновь и вновь выводя
на зачастую уже осточертевший, но все равно устойчивый, исторически
обусловленный расклад убеждений, тенденций и сил.
Несовпадение, рассогласование традиционного спектра сфер ответственности
и навязанных изменениями жизни видов деятельности — вообще страшная
вещь. Вот взять, скажем, прости Господи, многострадальную Украину. Все у
неё было после распада СССР — климат, почвы, промышленность,
научно-технический потенциал, выход к тёплым морям, армия, флот,
парламент, министры, премьеры, президенты… Одного не было — привычки
отвечать за себя. Традиций государственного строительства не было. Даже
мы тут, в России, тактично поверили в то, что Украина — независимая
страна, и берегли, поддерживали её независимость и территориальную
целостность, пока могли; да и в новых условиях, если посмотреть
непредвзято, опять именно мы поддерживаем незалежность, а отнюдь не,
скажем, США. А вот сами украинские элиты в государственную
самостоятельность так и не поверили. Отнеслись к своей стране как к
преходящему, скоропортящемуся ресурсу, который надо использовать в
личных целях как можно скорее. Пока дают. И потому все, что на Украине
было — климат, почвы, выходы к морям, промышленность, парламент и
министерские посты, — все оказалось лишь инструментами самоутверждения,
попыток персонального внедрения в элиты европейские и разграбления
собственной якобы независимой якобы страны. Более или менее исправно
осталось функционировать только то, что ещё со времён СССР традиционно
работало в кооперации с Россией. Да и то лишь до поры, когда это
принялись нарочито ломать.
Традиция отвечать за свои действия воспитывается веками, а протухает,
если её не тренировать — за считанные годы. Вот Европа. Уж сколько
столетий европейским государствам, сколько усилий они приложили, чтобы в
нескончаемом кровавом мельтешении сохраниться и расцвести — и военных
усилий, и экономических, и культурных. Но вот всего каких-то три
поколения сменилось с той поры, как если не контрольная, то уж
блокирующая доля ответственности за судьбу их стран была у европейцев
выкуплена американцами. Под зонтиком у заокеанского доброго дяди Старый
Свет охватило приятно расслабляющее чувство безопасности. Жираф большой,
ему видней.
И как же скоро была утрачена европейскими элитами адекватность. Как
измельчали за полвека лидеры. В какую высокопарную говорильню, в какую
бессмысленную игру затверженными штампами и давно утратившими
актуальность образами врагов, друзей и целей, напрочь оторванную от
реальных вызовов и проблем, превратились парламентские слушания и
президентские выступления. Будто там не соприкасаются с взаправдашним
миром и живут во вселенной словесных самоутверждений. А если и
отваживаются на что-то, кроме слов, то нелепо, судорожно, сами же
первыми удивляясь неожиданным последствиям — точно действовали не с тем,
чтобы достичь неких осмысленных, системно выстроенных результатов, а
просто чтоб время от времени доказывать себе и другим: во, глядите, как
мы ещё могём!
У рядовых китайцев тоже нет привычки отвечать за ту же, скажем,
законодательную деятельность. Поэтому у них не прижился парламент
европейского типа, хотя вполне дееспособным себя показывает Всекитайское
собрание народных представителей, похожее скорее на Верховный Совет
СССР, чем на нашу современную Думу. Но зато у китайцев, во-первых, есть
привычка законопослушания, истового соблюдения уставов, инструкций и
регламентов. А во-вторых, в Китае, в отличие от России, в течение по
крайней мере полутора тысячелетий действовала эффективная система
социальных лифтов (пресловутые государственные экзамены), благодаря
которым даже крестьянин мог, если получит образование и сильно
постарается, стать премьером и давать совету самому императору. Поэтому у
них возникло и вошло в культурную традицию очень важное свойство
чувства ответственности: автоматически расширяться по мере социального и
должностного продвижения. Живу в деревне — отвечаю за огород. Стал
начальником уезда — отвечаю за уезд. И так далее. В том не ощущалось ни
малейшего противоречия. Наоборот — приятно, настоящим человеком себя
чувствую, расту над собой.

Экзамены в сунской столице Кайфыне
Конечно, культурные традиции проявляются в разных людях по-разному и с
разной силой. Это надо специально оговорить, чтобы не было ко мне
претензий: мол, я утверждаю, будто ВСЕ китайцы в одинаковой степени
обладали перечисленными мною свойствами. Нет, разумеется. Речь идёт о
воспитании, о ненасильственно впитываемых с детства приоритетах, о
статистике, в конце концов. Но в конечном-то счёте все именно там, на
уровне априорных мотиваций, на уровне статистики и решается.
О различиях китайцев и русских можно было бы говорить не меньше, чем о
их сходстве. Но уже и так, я полагаю, понятно: вполне действенный, давно
проверенный и отлаженный в рамках одной системы ценностей социальный
механизм, механически перенесённый в другую, окажется всего лишь
чучелом, имитацией, ни на что живое не способной восковой фигурой. Люди,
которыми этот механизм будет заполнен, к нему не приспособлены, не
пришлифованы. Их комплекс мотиваций и стимулов работоспособен лишь в
определённой среде. Выдерни человека из такой среды, лиши его привычных,
необсуждаемых моральных ориентиров, и у него останется единственная
ценность — он сам. А тогда и все мотивации сведутся к стремлению
вычерпать из реальности максимальное количество личных благ.
Это относится не только к китайскому в России или российскому в Китае,
но и вообще ко всем бездумным и поспешным межкультурным социальным
трансплантациям.
Скажем, в силу многих вполне объективных факторов век-полтора назад
Европа казалась путеводной звездой человечества, и любая, говоря учёным
языком, попытка модернизации сводилась к попытке вестернизации.
Копирование институтов тогдашней Европы казалось отстающим и жаждущим
рвануться вперёд странам панацеей от любой отсталости. Это было и в
Китае. Свержение империи в 1912 году открыло дорогу для потуг подобного
рода. Результат не замедлил сказаться и был таким же, как и при
аналогичных попытках в других странах: воцарение культа Запада,
доходящая до гротеска по своей неработоспособности имитация западных
учреждений, распад страны на враждующие регионы, во главе которых стояли
местные военные клики, всепроникающая и всепоглощающая коррупция,
исключительно компрадорская, ни на что не годная экономика и полная
немощь государства.
У нас нечто подобное случалось дважды: очень коротко — после февральской
революции 1917-го года и несколько дольше — в 90-х годах прошлого века.
С очень похожими последствиями.
Значит ли это, что инокультурный опыт абсолютно неприменим для
реформирования, улучшения и вообще — стимулирования прогресса стран,
принадлежащих к другим цивилизационным очагам?
Думаю, очень даже применим.
Однако его применение не может быть сведено к уподоблению, копированию,
заимствованию. Скопированное не работает, заимствованное отторгается,
уподобление в лучшем случае сходит с лица, как гримаса, стоит лишь
расслабить лицевые мышцы, а порой и отдирается силком, грязной пятерней
реакции, вместе с кусками собственной, присохшей к чужому кожи.
Для обозначения конструктивных, работоспособных инокультурных заимствований я в своё время придумал понятие
«цивилизационных присадок».
Напрочь утративший смысл и перспективу развития Рим был спасён присадкой
христианства и породил в конечном счёте и католическую Европу, и
православную Византию. Христиане покорили Рим силой духа — тем самым,
чем Рим когда-то по праву гордился и что он к тому времени напрочь
утратил. У общества появились новый смысл и новая цель. Это не могло
стать спасением навечно, вечных спасений вообще не бывает. Но жизнь
государства и творческие способности общества были продлены на несколько
веков, а если считать с Византией — то более чем на тысячу лет. И каких
новых высот эта жизнь и эти способности достигли!
Экономические успехи сталинского СССР в начале тридцатых годов прошлого
века изрядно впечатляли буржуазный мир, переживавший как раз в ту пору
жесточайший экономический кризис. И когда Рузвельт провозгласил «новый
курс», социалистическая (я бы даже сказал — сталинистская) присадка
депрессивную Америку просто спасла.
За пару тысяч лет безальтернативного циклического развития в
изолированном углу Евразии конфуцианский Китай, при всем богатстве своей
культуры, при всей её мощи, исчерпал её потенциал. Перебор привычных
способов борьбы за существование в меняющемся мире уже не давал эффекта.
И Китай был спасён европейской присадкой. Но не в 20-х — 40-х годах,
когда он копировал, а позже, когда копировать перестал. Прокисший,
погрязший в коррупции, безнадёжно архаичный ещё во время Второй мировой,
он у нас на глазах, исторически мгновенно, начал всерьёз претендовать
на возвращение себе утраченного шесть веков назад статуса ведущей
державы мира. Запад оказался для Китая идеалом экономического и
технического всемогущества, всемогущества средств, благодаря которым
можно добиваться своих, исконно китайских целей, а коммунизм —
жизнеспособной и продуктивной адаптацией конфуцианской системы
управления к требованиям современности.
Уже эти примеры показывают, что для успешного применения чужого опыта
нужно два фактора: собственный кризис и наличие неподалёку уважаемого
иного.
Но иной, чужой, должен быть непременно уважаемым. Скажем, европейцы
никогда не смогут взять ничего у России, сколь бы жестокий кризис они ни
переживали. В балете могут, в литературе могут… А в жизни — нет. Не то
отношение. Россия — заведомый варвар. Скажем, ещё давным-давно в Европе
укоренилось — причём, как и всегда у них, в соответствии с последними
достижениями европейской науки — что русские совершеннейшие дикари: в
бане моются. А от бани, от влажного нагревания, расширяются поры кожи. А
именно через поры кожи в тело проникают болезнетворные миазмы. Все
болезни — от бани. В Европе раньше ведь тоже в баню ходили — пока наука
не предупредила о смертельной опасности.
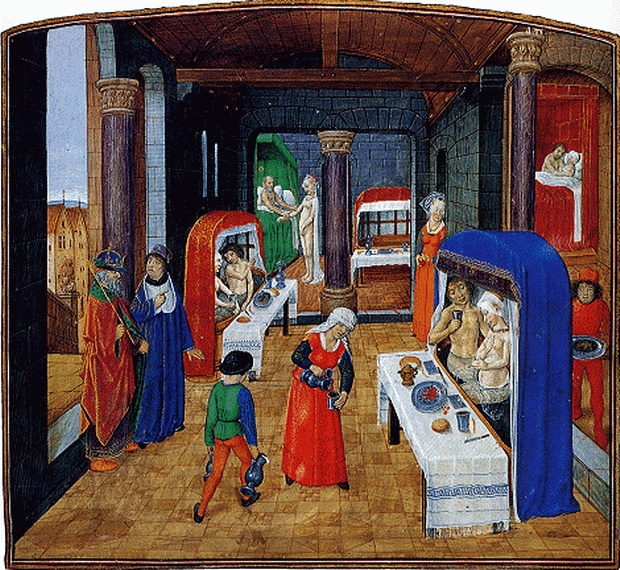
Баня в Европе, XIV век
Понятно, что русские обречены, причём исключительно в силу своей
собственной дикости и необразованности. Цивилизованному человеку нечего у
них взять хоть мало-мальски полезного, это очевидно.
Но если отрешиться от столь гротескных ситуаций…
Кризис — значит, возникла некая системная, чреватая серьёзной угрозой
трудность, с которой нельзя справиться, оставаясь в привычном,
исхоженном вдоль и поперёк поле представлений. Попробовали так,
попробовали этак… Нет, не выходит. Всё хуже и хуже. Жареным уже запахло,
если честно. Значит, жизнь требует принципиально нового решения,
качественно нового подхода, выхода, который покамест никак не
обнаруживается. Ведь человеку всегда и во всем свойственно искать
сначала не там, где потерял, а там, где светлее. То есть там, где
сконцентрированы давно уже опробованные, много раз в различном порядке
перебранные и перетасованные привычные ответы. Раньше они всегда
помогали. Но вот теперь — никак.
Если в этот момент в поле зрения попадает уважаемый или хотя бы
производящий впечатление иной, вряд ли даже тогда у какого-то уважающего
себя лидера или реформатора хватит духу смиренно сказать: ну, ладно, я
со всеми своими потугами сел в лужу, теперь попробую полностью
скопировать чужой удачный опыт. И правильно, что не хватит. Копирование,
как я уже говорил, до добра не доводит.
Психологический механизм, способный вывести на успех, здесь, как мне представляется, иной.
Наблюдаемый воочию удачный опыт, пусть принципиально чужой и заведомо
неприменимый впрямую, резко расширяет поле поиска собственных решений.
Через сбивание штампов и через ассоциативные цепочки.
Даже если и впрямь решиться на «новый курс» Рузвельту и его
администрации хоть отчасти, хоть косвенно помог впечатляющий темп
советской индустриализации, всё равно никогда не смогу поверить, будто
Рузвельт вот прям так себе и сказал: а попробую-ка я как дядюшка Джо.
Но он вполне мог подумать: обидно, черт возьми! У них Магнитка, а у нас
падение ВВП на сорок процентов. И почему, собственно, свобода
предпринимательства и государственное регулирование исключают друг
друга? Да, до сих пор так считалось, и невмешательство государства в
хозяйственную жизнь всегда являлось в нашей великой стране священным
принципом, гарантирующим нашу свободу, и былые президенты-прогрессисты,
которые ставили это под сомнение, не многого добились, и все их жалкие
новшества давно отменены… Но вот же как эти проклятые большевики
благодаря своему Госплану наяривают! А хуже, чем сейчас, нам уже просто
быть не может.
Если выхода нет там, где он всегда был, стало быть, пора поискать там, где до сих пор не искали и где другие уже нашли.
И, глядишь, пошло-поехало. И вполне срослось, зря боялись. Свобода
предпринимательства и государственное регулирование оказались ещё как
совместимы. Своё не отменилось. Чужое не копировалось. Но своим начали
пользоваться по-иному, в чём-то сходно с тем, как в Советском Союзе
пользовались своим, советским. При всех различиях их американского
«своего» и «своего» советского.
Нечто в том же роде произошло в Китае после того, как прямое копирование
европейских институтов довело страну до края. Конечно, отползая от
края, трудно не заползти в другую крайность; в неё и заползли — жуткие
нищие коммуны, большой скачок, культурная революция… Но когда болтанка
закончилось, оказалось, что своё не обязательно отменять — просто его
можно модифицировать так, как прежде и в голову не приходило. Обогатить,
а не обнулять. А завораживающий пример уважаемого иного — европейского
капитализма — никуда не делся. И получилось: как прежде, диктатура
Коммунистической партии, и социальные лифты благодаря партийным карьерам
работают так же, как спокон веку работали конфуцианские социальные
лифты благодаря карьерам чиновничьим — но при этом вводятся свободные
экономические зоны, и частный бизнес только приветствуется, и
миллионерам разрешено становиться коммунистами, а коммунистам —
миллионерами (при полном подчинении партийной дисциплине).

Так представляли себе будущее в Китае в 1982 году
Думаю, только таким — опосредованным, многоходовым, органичным — может
быть усвоение инокультурного опыта. Такое, при котором не обесценивается
и не обедняется свой, привычный, отлаженный опыт — но облегчается его
творческое развитие. Только тогда новое работает во всяком случае не
хуже старого, притёртого к географическому положению, климату и
национальному характеру многими веками успехов и неудач.
Чужой опыт — не штамп, но средство резко расширить пространство поиска
решений. Средство стимулирования эвристического потенциала. Причём не
вслепую, не наобум, но за счёт вариантов, уже доказавших, пусть в иных
условиях, свою эффективность.
Но, конечно, такое применение чужого — это творчество в не меньшей, а
порой и в большей степени, чем просто поиск наобум. Это ответственность.
Это интеллектуальное напряжение, трудовой процесс. Это колоссальные
требования к интуиции: что менять, в какую сторону, в какой пропорции?
Куда проще взять чужой чертёж и сказать: ага, вот на этом и поедем,
только вместо турбонаддува будем навоз лопатами подбрасывать, вместо шин
«Мишлен» железные ободья, а вместо GPS-навигатора Микки-Маус пусть
болтается, он тоже американский; но в целом — по газам и общая
дискотека.
Одну из давних своих статей, посвящённую невозможности закрыть
научно-технический прогресс и необходимости применять его достижения с
как можно большей пользой и с как можно меньшим вредом, я когда-то
закончил словами: «Мы ни от чего не можем отказаться. Мы должны учиться
применять».
Хочется и сейчас повторить практически то же самое.
Мы не можем отказаться от собственного опыта. Мы должны учиться его применять.
