Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма
24-08-2012, 15:26. Разместил: VP
Гранин Юрий Дмитриевич – ведущий научный сотрудник Института философии РАН, профессор, доктор философских наук.

Единства взглядов в том, что такое «империя», «нация» и «национализм», несмотря на длительную историю их изучения, не было и нет до сих пор. Будучи изменяющимися историческими феноменами, «империя» и «национализм», как Протей, ускользают от окончательных определений, а вопросы об их природе, формах, типах и эволюции получают множество ответов. Поэтому намерение составителей сборника «Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма» представить работы авторов, чьи теоретические подходы отличаются от традиционных, в принципе можно признать своевременным. Однако стоит отметить претенциозность названия и самого замысла книги, призванной «развенчать мифы», которых в научном дискурсе на самом деле нет. Ибо «мифы» – это слишком жесткая и неточная оценка естественного плюрализма мнений.
Рецензия на книгу: Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма. М.: Новое издательство, журнал «Ab Imperio», 2010, 428 с.
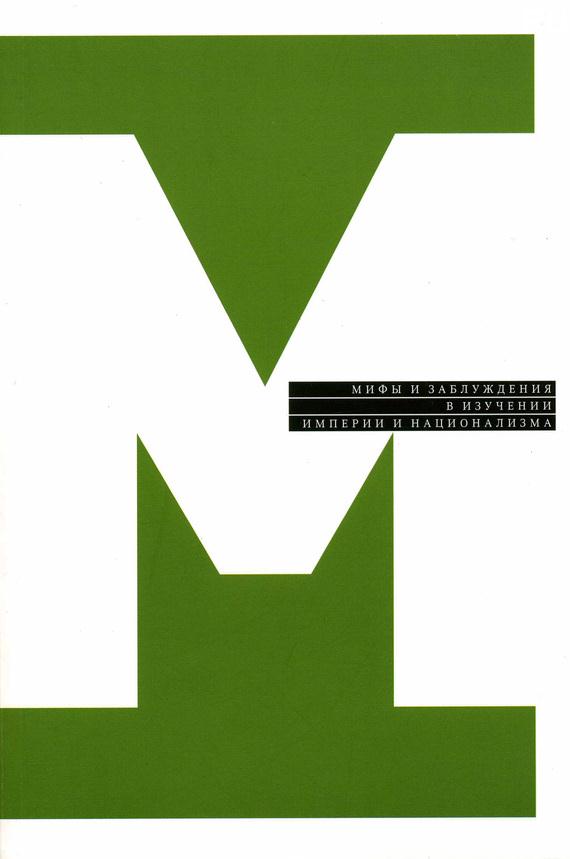 Прежде чем перейти к обсуждению этой интересной книги, представляющей собой антологию статей отечественных и зарубежных авторов, мало известных широкому читателю, хотелось бы обратить внимание на актуальность вынесенной в ее заглавие темы.
Прежде чем перейти к обсуждению этой интересной книги, представляющей собой антологию статей отечественных и зарубежных авторов, мало известных широкому читателю, хотелось бы обратить внимание на актуальность вынесенной в ее заглавие темы.
Несмотря на то что систематическое изучение национализма имеет почти двухвековую историю, единства взглядов в понимании его сути, форм и эволюции до сих пор нет. Вплоть до начала 1960-х гг. магистральная линия эволюции теоретических представлений о национализме была связана с «историческим направлением» исследований национализма, выразившее себя работами сравнительно-исторического и историографического плана К. Хэйза, Х. Кона, Б. Шефера, М. Гроха, Т. Шидера, О. Лемберга, Э. Хаана, обративших внимание современников на реальное многообразие исторических типов национализма. В то же время они, как и многие их современники, усматривали сущность национализма в социальной (групповой) психологии людей, вынося за скобки исследования изучение экономических, социальных, политических и культурных условий бытия интегрированных в этнические и национальные сообщества индивидов.
Важной вехой на пути преодоления этих - субъективно – символических - трактовок национализма в 1960-1980-е гг. стали работы Б. Андерсона, Э. Геллнера, К. Дойча, Э. Кедури, Э.Д. Смита, Э.Хобсбаума и Т. Рэйнджера, прервавшие монополию историков на изучение национализма и подготовившие «теоретическое» (междисциплинарное) направление исследований, иногда именуемое «национализмоведением». Теперь национализм интерпретировался как многоплановое историческое явление, представленное в многообразии духовных и предметно-практических воплощений. А идеи, содержащиеся в трудах этих авторов, были использованы, развиты и, конечно, подвергнуты критике в исследованиях У. Альтерматта, Р. Брубейкера, Э. Балибара, П. Брасса, Дж. Бройи, И. Валлерстайна, К. Ведери, А. Гастингса, Э. Гидденса, К. Гирца, Д. Горовитца, М. Канна, М. Манна, Ю. Хабермаса, С. Хатингтона, К. Хюбнера, М. Гроха и многих других известных авторов. Но искомый консенсус так и не был достигнут. В настоящее [время] в области изучения наций и национализма существуют, конкурируя между собой, натуралистический (примордиалистский), социетальный (в его социоэкономической, политической и культурной версиях), этносимволический и конструктивистский (в модернистском и постмодернистком вариантах) подходы, каждый из которых, претендуя на лидерство, тем не менее подвергается критике.
Ситуация с изучением «империи» не лучше. Отсутствуют не только общепринятая интерпретация этой дефиниции, но и признаваемая всеми типология империй. Обычно термин «империя» употребляется для обозначения государств крупных размеров, осуществляющих власть над народами, независимо от согласия или несогласия последних. Они характеризуется высокоцентрализованной властью, но могут представлять собой и федерацию, как Германская империя с 1871 по 1918 г., единое государство наподобие Российской империи или смешанное, как Британская империя. Образование империй отличается от образования обычных государств, которые объединяют более или менее родственные народы на смежных территориях. Но отличить эти два процесса друг от друга бывает очень трудно. Империю может возглавлять монархия (Испанская, Османская, Австро-Венгерская и другие империи), а может и демократическая республика с президентом (Французская колониальная империя). Германия стала называться империей задолго до захвата ею заморских колоний (в 1871 г.), представляя собой федерацию некогда независимых немецких государств. А Россия стала именовать себя империей лишь в 1720 г. — после завоевания Прибалтики.
Что такое, например, Китай или Индия? Всякий скажет, что это крупные полиэтнические государства-республики, еще недавно находившиеся в колониальной и полуколониальной зависимости. Но до того, как стать колонией Британии, та же Индия сама была империей — империей Великих моголов, насильственно объединившей десятки конфессионально разных народов. И это объединение в форме «федерации штатов» живо и по сей день. Пенджабцы-мусульмане желают выйти из федерации, чтобы присоединиться к Пакистану, а пенждабцы-сикхи хотят того же, чтобы создать свое самостоятельное государство. Восстания и тех и других безжалостно подавляются. И то же — в других бывших «империях», а ныне демократических государствах. Но почему тогда Индия или Турция (не желающая даровать свободу курдам) — «демократии», а бывший СССР, современный Китай и Россия — «империи»?
Если не принимать в расчет политическую демагогию и жонглирование понятиями, определенно ответить на эти вопросы нельзя. Граница, разделяющая «империи» и «неимперии», довольно размыта, а типология «империй» производится по самым разным основаниям - их разделяют на «древние» и «современные», «морские» и «континентальные», «кочевые» и «оседлые», «аристократические», «демократические», «национальные» и многие другие. Но единства взглядов в том, что такое «империя», «нация» и «национализм», как не было, так и нет до сих пор. Будучи изменяющимися историческими феноменами, «империя» и «национализм», как Протей, ускользают от окончательных определений, а вопросы об их природе, формах, типах и эволюции получают множество ответов в силу дисциплинарного строения, мультипарадигмальности научного знания и теоретических предпочтений ученых.
Поэтому намерение редакторов-составителей антологии (И. Герасимова, М. Могильнер, А. Семенова) представить читателям работы авторов, чьи теоретические подходы отличаются от традиционных, следует признать своевременным. И вместе с тем отметить претенциозность названия книги, призванной, будто бы, развенчать «мифы и заблуждения в изучении империи и национализма». Разумеется, и вопреки мнению Р. Брубейкера (несколько измененное название статьи которого было вынесено на обложку) никаких мифов в научном дискурсе об империи и национализме нет – это слишком жесткая и неточная оценка естественного плюрализма мнений. В действительности антология содержит статьи о национализме и империях, методологически примыкающих к трем направлениям: «субъективно-символическому», «когнитивно-лингвистическому» (постмодернистскому) и «сравнительной (компаративистской) истории изучения империй». При этом статьи когнитивно – лингвистической направленности, критикующие «язык» (понятийный аппарат) традиционных исследований империи и национализма, занимают более 70% объема книги.
Последнее не случайно и связано, очевидно, с философско-методологическими ориентирами журнала «Ab Imperio. Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве», редакторами которого составители сборника являются. «Этот журнал, - читаем во Введении, - является, вероятно, единственным российским научным периодическим изданием, которое не только формально интегрировано в структуры мирового обществоведения (журнал аффилирован с Американской ассоциацией содействия славянским исследованиям и включен в международные индексы цитирования), но и играет роль одного из лидеров международного научного процесса в своей области» (с.8).
По поводу лидерства судить не берусь, но реализуемое журналом «новое направление имперской истории» действительно пытается разрушить научные стереотипы в изучении империй и национализма. Согласно этому направлению[1] в дискурсе об империи и национализме существуют два основных «мифа»: эссенциалисткое представление о «реальном» (а не дискурсивном) существовании «империй», «наций» и «национализма» и убеждение в том, что империя как архаическая форма исторического опыта предшествует национальному государству. Но в свете новейших исследований локализовать историческую точку перехода «из мира империй в мир наций» невозможно. Дихотомия «нации», «национального государства» и «империи», по мнению разработчиков «новой имперской истории», возможна лишь в рамках модернистского дискурса, который заимствует свой аналитический аппарат из языка политических и социальных практик, акторами которых были и остаются националистически настроенные активисты. Следовательно, полагают составители сборника, необходима деконструкция понятий «империя» и «нация» как аналитических категорий, знаменующая собой «эпистемологический поворот» - переход к «новой оптике»: парадигме «стратегического релятивизма».
Предтечей этого направления создатели «новой имперской истории» (они же редакторы-составители) не без оснований считают Роджера Брубейкера, к анализу трех статей которого мы переходим. В первой из них «Мифы и заблуждения в изучении национализма» он предлагает обратиться «к шести «опасным постулатам», шести мифам и заблуждениям», которые присутствуют в литературе по этничности и национализму. К их числу Брубейкер относит: 1) оптимистический тезис «о принципиальной разрешимости националистических конфликтов» (за счет изменения «политической архитектуры» среды), 2) противостоящую ему пессимистическую «концепцию парового котла» (переоценивающую значимость насилия и актуальность националистических чувств), 3) «примордиалистское понимание национализма», 4) «теорию манипуляции элит» и так называемый 5) «манихейский» подход, сторонники которого утверждают, что существуют в конечном итоге лишь два типа национализма: хороший (гражданский) и плохой (этнический). Все эти концепции, считает Брубейкер, уязвимы для критики.
Но главным заблуждением, по мнению Брубейкера, является концепция «реализма группы», которая считает нации и этнические группы реальными сущностями, действительными, длящимися во времени коллективами с четко очерченными границами. Согласно этой концепции, «социальный мир состоит из внутренне гомогенных и внешне отграниченных культурных блоков, подобно полотну Модильяни… На мой взгляд, это видение социального мира, стилизованное под полотно Модильяни, является глубоко проблематичным. Этнические и национальные блоки сложно представить себе как внешне резко отграниченные и внутренне культурно гомогенные блоки» (с.65). Действительно, в современности за редким исключением многие этнические и национальные группы расселены за пределами политических границ, продолжают бороться за пересмотр этих границ, используя «право на самоопределение». Более того. За исключением изолированных племен, нет ни одного народа, сохранившего в первозданном виде свою антропологию и культуру: завоевания, миграции, аккультурации, смешанные браки, как говорится, сделали свое дело. Но указать на это очевидное эмпирическое несоответствие реального положения дел гомогенизирующему содержанию понятий «этнос» и «нация» недостаточно. «Для того чтобы оспорить карту Модильяни (т.е. теоретическую картину социального мира, используемую сегодня социальными науками – Ю.Г.), необходимо подвергнуть прямому сомнению групповую социальную онтологию, на которой основывается эта карта» (с.95). Фактически Брубейкер предлагает отказаться от всех категорий социальных наук («расы», «этничности» и др.), которые образованы из веры «в онтологию группы».
По его мнению, «формулировка вопроса “что есть нация?” не вполне корректна, поскольку подталкивает нас к тому, чтобы определять национальность в категориях объективной реальности, рассматривать нации как особые явления (сообщества?). …Я хочу поставить вопрос несколько иначе: как работает понятие «нация»? Такая формулировка заставляет нас отказаться от расхожего понимания нации как сообщества людей, коллектива, особого организма» (с.110-111). И интерпретировать его как понятие, относящееся к числу ценностных категорий. Оно хорошо работает в языке политических активистов, стремящихся изменить восприятие людьми самих себя, воззвать к их преданности «нации», но не годится в качестве инструмента анализа. Поэтому от него надо избавляться, как и от других «категорий практики». Но как?
Ответ на этот вопрос читатель найдет в следующей, написанной совместно с Ф. Купером, статье Брубейкера «За пределами идентичности», где, обращая внимание на то, что 1) семантически «идентичность» связана с идеей постоянства и потому не подходит для анализа процессов, что 2) она основывается на мысли о тождественности (самотождественности) во времени индивидов и «групп», которые не имеют четкой границы, авторы предлагают заменить это понятие «тремя кластерами терминов». Это необходимо для того, чтобы «размотать тугой клубок значений, которые накопились вокруг понятия «идентичность», и разделить выполняемую им «работу» между несколькими менее нагруженными смыслами терминами» (с.149). В качестве таких терминов предлагаются понятия «идентификация», «категоризация» (населения государственными институтами), «самопонимание», «общность», «связанность» и «группность» (см. с.149-165). По мнению авторов, эти более приспособлены для анализа сложной и текучей социальной реальности, нежели многозначное, размытое понятие идентичности.
Разумеется, деконструкция и сопутствующее ей уточнение языка дисциплин, изучающих становление и эволюцию больших и малых социальных групп, само по себе не может вызвать возражений. Тем более что Брубейкер и его последователи на конкретных примерах демонстрируют эвристическую ценность новых терминов. Но аргументация необходимости отказа от традиционных, широко используемых понятий уязвима с точки зрения истории и философии науки.
Во-первых, не только «нация», но и многие понятия самых разных наук заимствованы из обыденного и, в частности, политического языка, обретя в новых теоретических контекстах новое содержание и новые смыслы. Но это не повод от них отказываться. Во-вторых, онтологизация – характерная черта многих наук и концепций, теоретическим объектам которых приписывается статус существования. Поэтому, в-третьих, вопрос о том, «что есть нация?» («племя», «этнос», «класс», «страта» и др.), вполне корректен, если мы полагаем, что содержание и использование понятий не есть только результат научной конвенции, прагматического и инструментального выбора, но и соответствует внешней нам объективной социальной действительности. Разумеется, границы этого соответствия могут быть самые широкие, но в любом случае компетентные исследователи отдают себе отчет в том, что теоретические социальные объекты не тождественны эмпирически наблюдаемым «физическим телам» и «организмам», ибо способом их существования является осознанная деятельность людей.
Возможно, понятие «нация» в качестве базовой категории «нациолизмоведения» или понятие «этнос» - этнологии, не имеют высокой инструментально-аналитической ценности. Но они могут быть продуктивно использованы в междисциплинарных концепциях большой степени общности. Так же как и понятие «империя», которое, например, в рамках цивилизационного подхода интерпретируется как политическая форма существования и распространения «цивилизаций».
Впрочем, авторы рецензируемой антологии, в частности Доминик Ливен («Империя, история и мировой порядок»), придерживаются иного – сравнительно-исторического – подхода, для которого более удобна интерпретация империи как системы, в центре которой оказывается власть во всех ее проявлениях. «Империя по определению, - пишет Ливен, - является антиподом демократии, народного суверенитета и национального самоопределения. Власть над многими народами без их на то согласия – вот что отличало все великие империи прошлого и что предполагают все разумные определения этого понятия» (с.286). Разумеется, это слишком сильное заявление, исключающее из состава империй так называемые европейские «национально-демократические» колониальные империи, стремившиеся культурно ассимилировать туземные элиты, включив их в состав национального ядра метрополии.
На это явление обращают внимание авторы текста «Траектории империи» Джейн Бурбанк и Фредерик Купер, анализирующие, какими средствами империи достигали баланса между инкопорацией народов в единую политию и поддержанием различий между ними; какое политическое воображение они формировали и как отвечали на разнообразные вызовы. Интерпретируя империи как «большие политические структуры», «политии, создававшие разграничения и иерархию по мере того, как они включали в себя все новых подданных» (с.331), авторы противопоставляют их национальным государствам. Если национальное государство основывается на идее единого народа на единой территории и настаивает на гомогенизации населения, исключая из него тех, кто не принадлежит к нации, то империя «обращена наружу, она захватывает и вовлекает в свою политическую структуру – часто путем принуждения – новые народы, при этом открыто признавая их различия. Сама концепция империи предполагает, что населяющие ее народы управляются по-разному» (с.332).
В этом, полагают авторы, заключается историческое преимущество имперской политической формы, обеспечившее ее долговечность, на фоне которой «национальное государство» выглядит маленьким пятнышком на историческом горизонте. Оно возникло в Европе в окружении империй и не является следствием их деградации. «Такая долговечность империй, - пишут Бурбанк и Купер, - ставит под сомнение саму идею о естественности и неизбежности национального государства» (с.327). Особенно если следовать идее нелинейности осуществления социальной истории человечества: она никогда не была безальтернативной, а всегда и теперь (в реальности или в воображении) оказывалась организованной множественными способами. Поэтому даже сегодня империю как форму власти считают политически возможной, а сравнительное изучение империй позволяет отказаться от многих стереотипов общественных наук: например, от европоцентризма или негативной оценки так называемых «степных империй», в действительности оказавших положительное влияние на развитие многих регионов планеты.
Не случайно, отмечает Марк Бейссингер в статье «Феномен воспроизводства империи в Евразии», и в 20-м, и в 21 столетиях «феномен империй» устойчиво воспроизводится в Евразии в качестве «семейного подобия» империям прошлого. Это подобие заключается не в воспроизведении прежних форм политического господства, а в заимствовании «имперского поведения» и «имперской риторики» СССР и современной Россией, которые выглядят империями на фоне принятых Европой (но не США!) постимперских норм международных отношений и особенно – в восприятии «соседей», когда-то входивших в состав империи Романовых и СССР. Существующее на постсоветском пространстве очевидное неравенство в соотношении сил между российским государством и другими странами региона, пишет Бейссингер, «не только провоцирует Россию к установлению иерархий и самоуверенному поведению…, но оно способствует нагнетению у соседей России страха перед возрождением империи, приводит к тому, что они начинают интерпретировать изменяющиеся действия России в имперском ключе». (с.380). Аналогичным образом соседи интерпретируют действия Китая. Иными словами, сохраняющийся в Евразии структурный дисбаланс в соотношении сил, заставляет всех участников политической игры исполнять достаточно знакомые им роли.
Наконец, несколько замечаний по поводу заключительной уже упоминавшейся статьи антологии. Ее авторы – разработчики «новой имперской истории» - используют продуктивную, как им кажется, методологию «стратегического релятивизма», предполагающую отказ от «структуралистских, эссенциалистских и функционалистских определений империи» в пользу выработки «более динамичной модели конструирования и маркирования имперского опыта», который «логически ведет к исследованию комплекса языков самоописания и саморационализации» прошлого. «Вместо обсуждения того, что такое империя, - пишут авторы, - мы приглашаем наших читателей к размышлению о том, что делает определенные тропы и дискурсы имперскими. Таким образом, мы не претендуем на универсальную теорию или определение империи. Вместо этого мы предлагаем рабочую модель «имперской ситуации», характеризуемой напряженностью, несочетаемостью и несоразмерностью языков самоописания разных исторических акторов» (с.403). Проще говоря, авторы предлагают ограничить изучение прошлого анализом его дискурсивной составляющей. По их мнению, именно таким образом удается «ухватить» историческую динамику, которую «часто трудно уловить исследователю, подходящему к проблеме с аналитическим инструментарием, сформированным той или иной телеологической и монологической оптикой. Именно этим занимается большая часть историков империи, когда предпринимает попытку охватить имперскую гетерогенность при помощи аналитического инструментария современного обществоведения» (с.404). Но почему этот инструментарий не годится?
Обычная претензия историков к обществоведам – в слишком высокой абстрактности используемых последними понятий, помещающих многообразное прошлое в прокрустово ложе сухих теоретических схем и тем самым упрощающих картину живого исторического процесса. Но авторы (в духе постмодернистской риторики) указывают также на нагруженность этого языка новоевропейскими социальными и культурными смыслами (несущими на себе отпечаток «вызовов» Просвещения, национализма и модернизации), благодаря которым выработался «гегемонистический дискурс» негативного отношения к империи, в пределах которого «империя» стала «подчиненным другим» … для модерных социальных и гуманитарных наук, поскольку ее заставили «говорить» аналитическими и зачастую самоописательными языками, сформированными модернистским национальным каноном» (с.405). Но эти языки не являются собственно имперскими. Поэтому «целью нашего подхода является раскрытие множественности собственно имперских голосов, генеалогий и контекстов – и их соответствующая деконструкция» (там же).
Думаю, интенцию авторов к отказу от упрощающих объяснений, критико-рефлексивное отношение к категориальному аппарату современного обществознания, широко используемому в исторических исследованиях, следует поддержать. Заставить прошлое «говорить» собственными языками самоописания, сравнивая, в частности, языки самоописания той же империи Романовых в разные (домодерную и модерную) эпохи – безусловно, важная задача. Но она не исчерпывает всех функций исторического исследования: в частности, функцию объяснения. Для того чтобы выявить, например, тенденции эволюции той же российской империи, придется все равно включить ее в более широкий исторический контекст, используя генерализации и, шире, «модерную» рациональность. Не случайно современные обществоведы и философы науки, признавая различные исторические типы рациональности, не спешат признать постмодернитскую форму рационализации прошлого в качестве единственно верной.
Примечания:
[1] Подробная характеристика которого дана в заключительной статье сборника: Илья Герасимов, Сергей Глебов, Ян Кусберг, Марина Могильнер, Александр Семенов. Новая имперская история и вызовы империи. (с.383-418).
Вернуться назад