Чернобыльская тетрадь. Часть 2 (Окончание)
19-08-2019, 19:57. Разместил: Влад 66

Продолжение.Начало здесь
С общей образованностью, имею в виду широту кругозора, начитанность, гуманитарную культуру, у Брюханова было слабовато. Этим в какой-то мере объяснял я позже его стремление окружать себя сомнительными знатоками жизни...
А тогда, в 1971 году, я представился, и он обрадованно произнес:
— А, Медведев! Мы ждем вас. Скорее приступайте к работе.
Брюханов вышел из кабинета и позвал главного инженера.
Вошел Михаил Петрович Алексеев, успевший поработать здесь уже несколько месяцев. Приехал он в Припять с Белоярской АЭС, где работал заместителем главного инженера по третьему строящемуся блоку, который числился пока только на бумаге. Опыта атомной эксплуатации Алексеев не имел и до Белоярки 20 лет трудился на тепловых станциях. И как вскоре выяснилось, рвался в Москву, куда месяца через три после начала моей работы на Чернобыльской АЭС и уехал. О понесенном им наказании по итогам Чернобыля я уже рассказал ранее. Его начальник по московской работе, председатель Госатомэнергонадзора Е. В. Кулов понес более суровую кару. Его сняли с работы и исключили из партии. Такое же наказание до суда понес Брюханов...
Но это случилось через пятнадцать лет. А в течение этих пятнадцати лет произошли важные события, главным образом в кадровой политике на АЭС. Эту политику проводил и Брюханов. Она-то и привела, на мой взгляд, к 26 апреля 1986 года...
С первых же месяцев работы на Чернобыльской атомной станции (до нее я много лет работал начальником смены АЭС на другой станции) я приступил к формированию персонала цехов и служб. Предлагал Брюханову кандидатуры с многолетним стажем работы на атомных станциях. Как правило, Брюханов прямо не отказывал, но и на работу не принимал, исподволь предлагая или даже проводя на эти должности работников тепловых станций. Говорил при этом, что, по его мнению, на АЭС должны работать опытные станционники, хорошо знающие мощные турбинные системы, распредустройства и линии выдачи мощности.
С большим трудом, через голову Брюханова, заручившись поддержкой Главатомэнерго, мне удалось укомплектовать реакторный и спецхимический цеха нужными специалистами. Брюханов комплектовал турбинистов и электриков. Примерно в конце 1972 года на Чернобыльскую АЭС пришли работать Н. М. Фомин и Т. Г. Плохий. Первого Брюханов предложил на должность начальника электроцеха, второго — на должность заместителя начальника турбинного цеха. Оба эти человека прямые кандидатуры Брюханова, а Фомин, электрик по опыту работы и образованию, был выдвинут на Чернобыльскую атомную станцию с Запорожской ГРЭС (тепловая станция), до которой работал в Полтавских энергосетях. Называю эти две фамилии, ибо с ними через пятнадцать лет будут связаны две крупнейшие аварии в Балаково и Чернобыле...
Как заместитель главного инженера по эксплуатации я беседовал с Фоминым и предупредил его, что атомная станция предприятие радиоактивное и чрезвычайно сложное. Крепко ли он подумал, оставив электроцех Запорожской ГРЭС?
У Фомина красивая белозубая улыбка. Похоже, он знает это и улыбается почти непрерывно к месту и не к месту. Хитро улыбаясь, он ответил, что АЭС предприятие престижное, суперсовременное и что не боги горшки обжигают...
У него был довольно приятный напористый баритон, перемежавшийся в минуты волнения альтовыми нотками. Квадратная угловатая фигура, наркотический блеск темных глаз. В работе четок, исполнителен, требователен, импульсивен, честолюбив, злопамятен. Походка и движения резкие. Чувствовалось, что внутренне он всегда сжат как пружина и готов для прыжка... Останавливаюсь на нем так подробно потому, что ему предстояло стать своеобразным атомным Геростратом, личностью в некотором роде исторической, с именем которой начиная с 26 апреля 1986 года будет связываться одна из страшнейших ядерных катастроф на АЭС...
Тарас Григорьевич Плохий, напротив, вял, обстоятелен, типичный флегматик, манера речи растянутая, нудная, но дотошен, упорен, работящ. О нем по первому впечатлению можно было бы сказать: тюха, размазня, если бы не его методичность и упорство в работе. К тому же многое скрадывала его близость к Брюханову (вместе работали на Славянской ГРЭС). В отсвете этой дружбы он казался многим более значительным и энергичным...
После моего отъезда из Припяти на работу в Москву Брюханов стал активно продвигать Плохия и Фомина в руководящий эшелон Чернобыльской АЭС. Впереди шел Плохий. Он стал со временем заместителем главного инженера по эксплуатации, затем главным инженером. В этой должности он долго не задержался и по предложению Брюханова был выдвинут главным инженером на строящуюся Балаковскую АЭС, станцию с водо-водяным реактором, проекта которого он не знал, а в итоге, в июне 1985 года во время пусконаладочных работ, из-за халатности и разгильдяйства, допущенных эксплуатационным персоналом под его руководством, и грубого нарушения технологического регламента произошла авария, при которой живьем сварились четырнадцать человек. Трупы из кольцевых помещений вокруг шахты реактора вытаскивали к аварийному шлюзу и складывали к ногам бледного как смерть некомпетентного главного инженера...
А тем временем на Чернобыльской АЭС Брюханов продолжал двигать по службе Фомина. Тот прошел семимильными шагами должности заместителя главного инженера по монтажу и эксплуатации и вскоре заменил Плохия на посту главного инженера. Тут следует отметить, что Минэнерго СССР не поддерживало кандидатуру Фомина. На эту должность предлагали В. К. Бронникова, опытного реакторщика. Но Бронникова не утвердили в Киеве, называя его обыкновенным технарем. Мол-де, Фомин — жесткий, требовательный руководитель. Хотим его. И Москва уступила. Кандидатуру Фомина согласовали с отделом ЦК КПСС, и дело было решено. Цена этой уступки известна...
Тут бы надо было остановиться, осмотреться, задуматься над балаковским опытом, усилить бдительность и осторожность, но...
В конце 1985 года Фомин попадает в автокатастрофу и ломает себе позвоночник. Длительный паралич, крушение надежд. Но могучий организм справился с недугом, Фомин выздоровел и вышел на работу 25 марта 1986 года, за месяц до Чернобыльского взрыва. Я был в Припяти как раз в это время с инспекцией строящегося 5-го энергоблока, на котором дела шли неважно, ход работ сдерживался нехваткой проектной документации и технологического оборудования. Видел Фомина на совещании, которое мы собрали специально по 5-му энергоблоку. Он здорово сдал. Во всем облике его была какая-то заторможенность и печать перенесенных страданий. Автокатастрофа не прошла бесследно.
— Может, тебе лучше отдохнуть еще парочку месяцев, подлечиться? — спросил я его. — Травма-то серьезная.
— Да нет... Все нормально,— резко и как-то, мне показалось, деланно засмеялся он, при этом глаза у него, как и пятнадцать лет назад, имели выражение лихорадочное, злое, напряженное.— Работа не ждет...
И все же я считал, что Фомин нездоров, что это опасно не только для него лично, но и для атомной станции, для четырех ядерных энергоблоков, оперативное руководство которыми он осуществлял. Обеспокоенный, я решил поделиться своими опасениями с Брюхановым, но он тоже стал успокаивать меня: «Я думаю, ничего страшного. Он поправился. В работе скорее дойдет до нормы...»
Такая уверенность меня смутила, но я не стал настаивать. В конце концов, мое ли это дело? Человек, может, и вправду чувствует себя неплохо. К тому же теперь я занимался вопросами строительства АЭС. Эксплуатационные дела по нынешней должности меня не касались, и потому решать вопрос о снятии или временной замене Фомина я не мог. Ведь выписали его на работу врачи, опытные специалисты, знали, что делали... И все же, сомнение в моей душе было, и я не мог еще раз не обратить внимание Брюханова на, как мне казалось, факт нездоровья Фомина. Потом мы разговорились. Брюханов пожаловался, что на Чернобыльской АЭС много течей, не держит арматура, текут дренажи и воздушники. Общий расход течей почти постоянно составляет 50 кубометров радиоактивной воды в час. Еле успевают перерабатывать ее на выпарных установках. Много радиоактивной грязи. Сказал, что ощущает уже сильную усталость и хотел бы уйти куда-нибудь на другую работу...
Он недавно только вернулся из Москвы, с XXVII съезда КПСС, на котором был делегатом.
Но что же происходило на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 25 апреля, пока я находился еще на Крымской станции, а потом летел на Ил-86 в Москву?
В 1 час 00 минут ночи 25 апреля 1986 года оперативный персонал приступил к снижению мощности реактора № 4, работавшего на номинальных параметрах, то есть на 3000 МВт тепловых.
Снижение мощности производилось по распоряжению заместителя главного инженера по эксплуатации второй очереди атомной станции А. С. Дятлова, готовившего четвертый блок к выполнению утвержденной Фоминым программы.
В 13 часов 05 минут того же дня турбогенератор № 7 был отключен от сети при тепловой мощности реактора 1600 МВт тепловых. Электропитание собственных нужд блока (четыре главных циркуляционных насоса, два питательных электронасоса и др.) было переведено на шины оставшегося в работе турбогенератора № 8, с которым и предстояло проводить задуманные Фоминым испытания.
В 14 часов 00 минут в соответствии с программой эксперимента от контура многократной принудительной циркуляции, охлаждающего активную зону, была отключена система аварийного охлаждения реактора (САОР). Это была одна из грубейших и роковых ошибок Фомина. Вместе с тем нужно подчеркнуть, что сделано это было сознательно, чтобы исключить возможный тепловой удар при поступлении холодной воды из емкостей САОР в горячий реактор.
Ведь когда начнется разгон на мгновенных нейтронах, сорвут подачу воды главные циркуляционные насосы, и реактор останется без охлаждающей воды, 350 кубометров аварийной воды из емкостей САОР, возможно, спасли бы положение, погасив паровой эффект реактивности, самый весомый из всех. Кто знает, какой был бы итог. Но... Что не сделает некомпетентный в ядерных вопросах человек с острой внутренней установкой на лидерство, с желанием выделиться в престижном деле и доказать, что атомный реактор это не трансформатор и без охлаждения может работать...
Трудно сейчас предположить, какие тайные замыслы освещали сознание Фомина в те роковые часы, но отключить систему аварийного охлаждения реактора, которая в критические секунды, быть может, спасла бы от взрыва, резко снизив паросодержание в активной зоне, мог только человек, совершенно не понимающий нейтронно-физических процессов в атомном реакторе или, по меньшей мере, крайне самонадеянный.
Но тем не менее, это было сделано, и сделано, как мы уже знаем, сознательно. Видимо, гипнозу самонадеянности, идущей вразрез с законами ядерной физики, поддались и заместитель главного инженера по эксплуатации А. С. Дятлов, и весь персонал службы управления четвертого энергоблока. В противном случае хотя бы кто-нибудь один должен был в момент отключения САОР опомниться и крикнуть:
— Отставить! Что творите, братцы! Гляньте вокруг. Рядом, рукой подать, древние города: Чернобыль, Киев, Чернигов, плодороднейшие земли нашей страны, цветущие сады Украины и Белоруссии... В Припятском родильном доме регистрируются новые жизни! В чистый мир они должны прийти, в чистый! Опомнитесь!
Но никто не опомнился, никто не крикнул. САОР была спокойненько отключена, задвижки на линии подачи воды в реактор заранее обесточены и закрыты на замок, чтобы в случае надобности не открыть их даже вручную. А то ведь сдуру и открыть могут, и 350 кубометров холодной воды ударит по раскаленному реактору... Но ведь в случае максимальной проектной аварии в активную зону все равно пойдет холодная вода. Здесь из двух зол нужно выбирать меньшее. Лучше подать холодную воду в горячий реактор, нежели оставить раскаленную активную зону без воды. Ведь снявши голову, по волосам не плачут. Вода САОР поступает как раз тогда. когда ей надо поступить, и тепловой удар тут несоизмерим со взрывом...
Психологически вопрос очень сложный. Ну, конечно же, конформизм операторов, отвыкших самостоятельно думать, халатность и разгильдяйство, которые проникли, утвердились в службе управления АЭС и стали нормой. Еще — неуважение к атомному реактору, который воспринимался эксплуатационниками чуть ли не как тульский самовар, может, чуть сложнее. Забвение золотого правила работников взрывоопасных производств: «Помни! Неверные действия—взрыв!» Был тут и электротехнический крен в мышлении, ведь главный инженер — электрик, к тому же после тяжелой спинномозговой травмы, последствия которой для психики не остались бесследными. Бесспорен и недосмотр психиатрической службы медсанчасти Чернобыльской АЭС, которая должна зорко следить за психическим состоянием атомных операторов, а также руководства АЭС, и вовремя отстранять их от работы в случае необходимости...
И тут снова надо напомнить, что система аварийного охлаждения реактора (САОР) была выведена из работы сознательно, чтобы избежать теплового удара по реактору при нажатии кнопки «МПА». Стало быть, Дятлов и операторы были уверены, что реактор не подведет. Самонадеянность? Да. Именно здесь начинаешь думать, что эксплуатационники не представляли до конца физики реактора, не предвидели крайнего развития ситуации. Думаю, что сравнительно успешная работа Чернобыльской АЭС в течение десяти лет также способствовала размагничиванию людей. И даже тревожный сигнал — частичное расплавление активной зоны на первом энергоблоке этой станции в сентябре 1982 года — не послужил должным уроком. И не мог послужить. Ведь долгие годы аварии на атомных станциях скрывались, хотя эксплуатационники разных АЭС друг от друга отчасти узнавали о них. Но не придавали должного значения, «Раз уж начальство помалкивает—нам сам бог велел». Более того — аварии воспринимались уже как неизбежные, хоть и неприятные спутники атомной технологии.
Десятилетиями ковалась уверенность атомных операторов, которая со временем превратилась в самонадеянность и возможность полного попрания законов ядерной физики и требований технологического регламента, иначе...
Однако начало эксперимента откладывалось. По требованию диспетчера Киевэнерго в 14 часов 00 минут 25 апреля 1986 года вывод блока из работы был задержан.
В нарушение технологического регламента эксплуатация четвертого энергоблока в это время продолжалась с отключенной системой аварийного охлаждения реактора (САОР), хотя формально повод для такой работы был: наличие кнопки «МПА» и преступное при этом блокирование защит из-за опасения при ее нажатии заброса холодной воды в горячий реактор...
В 23 часа 10 минут (начальником смены четвертого энергоблока в это время был Юрий Трегуб) снижение мощности было продолжено.
В 24 часа 00 минут Юрий Трегуб сдал смену Александру Акимову, а его старший инженер управления реактором (сокращенно СИУР) сдал смену старшему инженеру управления реактором Леониду Топтунову...
Тут возникает вопрос: а если бы эксперимент проводился в смену Трегуба, произошел бы взрыв реактора? Думаю, что нет. Реактор находился в стабильном, управляемом состоянии, оперативный запас реактивности был более 28 поглощающих стержней, уровень мощности — 1700 МВт тепловых. Но завершение опыта взрывом могло произойти и в этой вахте, если бы при отключении системы локального автоматического регулирования (сокращенно ЛАР) старший инженер управления реактором (СИУР) смены Трегуба допустил бы ту же ошибку, что и Топтунов, а допустив ее, стал бы подниматься из «йодной ямы»...
Трудно сказать, что бы случилось, но хочется надеяться, что СИУР смены Юрия Трегуба сработал бы профессиональнее Леонида Топтунова и проявил бы большее упорство в отстаивании своей правоты. Так что человеческий фактор налицо...
Но события развивались так, как их запрограммировала Судьба. И кажущаяся отсрочка, которую дал нам диспетчер Киевэнерго, сдвинув испытания с 14 часов 25 апреля на 1 час 23 минуты 26 апреля, оказалась на самом деле лишь прямым путем к взрыву...
В соответствии с программой испытаний выбег ротора генератора с нагрузкой собственных нужд предполагалось произвести при мощности 700—1000 МВт тепловых. Тут необходимо подчеркнуть, что такой выбег следовало производить в момент глушения реактора, ибо при максимальной проектной аварии аварийная защита реактора (АЗ) по пяти аварийным уставкам падает вниз и глушит аппарат. Но был выбран другой, катастрофически опасный путь — производить выбег ротора генератора при работающем реакторе. Почему был выбран такой опасный режим, остается загадкой. Можно только предположить, что Фомин желал чистого опыта...
Дальше произошло вот что. Надо пояснить, что поглощающими стержнями можно управлять всеми сразу или по частям, группами. При отключении одной из таких локальных систем, что предусмотрено регламентом эксплуатации атомного реактора на малой мощности, СИУР Леонид Топтунов не смог достаточно быстро устранить появившийся разбаланс в системе регулирования (в ее измерительной части). В результате этого мощность реактора упала до величины ниже 30 МВт тепловых. Началось отравление реактора продуктами распада. Это было начало конца...
Тут коротко следует охарактеризовать заместителя главного инженера по эксплуатации второй очереди Чернобыльской АЭС Анатолия Степановича Дятлова. Высокий, худощавый, с маленьким угловатым лицом, с гладко зачесанной назад серой от седины шевелюрой и уклончивыми, глубоко запавшими тусклыми глазами, А. С. Дятлов появился на атомной станции где-то в середине 1973 года. Его анкету передал мне Брюханов для изучения загодя. От Брюханова же и пришел Дятлов ко мне на собеседование некоторое время спустя.
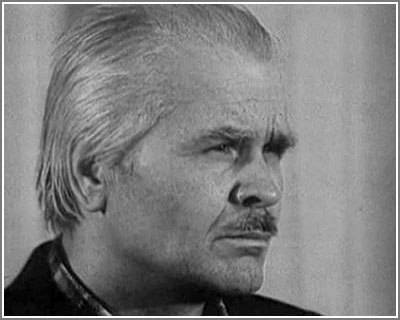
По анкете значилось, что работал он заведующим физлабораторией на одном из предприятий Дальнего Востока, где, насколько можно было судить по анкете, занимался небольшими корабельными атомными установками. В беседе с ним это подтвердилось.
— Исследовал физические характеристики активных зон малых реакторов,— сказал он тогда.
На АЭС никогда не работал. Тепловых схем станции и уран-графитовых реакторов не знает.
— Как будете работать? — спросил я его.— Объект для вас новый.
— Выучим,—сказал он как-то натужно,—задвижки там, трубопроводы... Это проще, чем физика реактора...
Странная манера держаться: нагнутая вперед голова, ускользающий взгляд мрачноватых серых глаз, натужная прерывистая речь. Казалось, он с большим трудом выдавливал из себя слова, разделяя их значительными паузами. Слушать его было нелегко, характер в нем ощущался тяжелый.
Я доложил Брюханову, что принимать Дятлова на должность начальника реакторного цеха нельзя. Управлять операторами ему будет трудно не только в силу черт характера (искусством общения он явно не владел), но и по опыту предшествующей работы: чистый физик, атомной технологии не знает.
Брюханов выслушал меня молча. Сказал, что подумает. Через день вышел приказ о назначении Дятлова заместителем начальника реакторного цеха. Где-то Брюханов прислушался к моему мнению, назначив Дятлова на более низкую должность. Однако направление «реакторный цех» — осталось. Тут, я думаю, Брюханов допустил ошибку, и как показала жизнь — роковую...
Прогноз относительно Дятлова подтвердился: неповоротлив, тугодум, тяжел и конфликтен с людьми...
Пока я работал на Чернобыльской АЭС, Дятлов по службе не продвигался. Более того, впоследствии я планировал перевести его в физлабораторию, где он был бы на месте.
После моего отъезда Брюханов стал двигать Дятлова, он стал начальником реакторного цеха, а затем и заместителем главного инженера по эксплуатации второй очереди атомной станции.
Приведу характеристики, данные Дятлову его подчиненными, проработавшими с ним бок о бок много лет.
Давлетбаев Разим Ильгамович — заместитель начальника турбинного цеха четвертого блока:
«Дятлов человек непростой, тяжелый характер. В отличие от основного контингента руководства АЭС вел себя обособленно. Особо не утруждал себя. Фактически техническое руководство блоком взяли на себя начальники цехов и их заместители. Если необходимо было решать вопросы, касающиеся участия нескольких подразделений,—они решались „по горизонтальным связям". Дятлова это устраивало, нас — нет. Но другого выхода не было, так как он всячески уходил от трудных вопросов, даже вопросы пуска и освоения четвертого блока прошли без его помощи и реального руководства. Душой за состояние дел Дятлов не болел, хотя носил маску сурового и требовательного руководителя. Операторы его не уважали. Он отвергал все предложения и возражения, которые требовали его усилий. Подготовкой операторов не занимался. Требовал, чтобы цеха сами их готовили. Он лишь вел учет их количества. На экзаменах стал присутствовать через полтора года после пуска четвертого блока, хотя как председатель комиссии должен был это делать еще до пуска блока. За ошибки персонала и непослушание наказывал строго, применяя метод окриков и нагнетания нервозности на БЩУ и технических совещаниях. В существо вопросов вдавался долго, хотя инженерный потенциал у него был достаточный. Реакторную установку, похоже, знал. Технологию других цехов знал ограниченно. Под его руководством работа выполнялась без чувства удовлетворения. В обстановке, отвлеченной от работы, был общителен, располагающий к себе собеседник, не лишенный своеобразного юмора. Упрямый, нудный, не держит слова...»
Смагин Виктор Григорьевич — начальник смены четвертого блока:
«Дятлов человек тяжелый, замедленный. Подчиненным обычно говорил:— Я сразу не наказываю. Я обдумываю поступок подчиненного не менее суток и, когда уже не остается в душе осадка, принимаю решение...
Костяк физиков-управленцев Дятлов собрал с Дальнего Востока, где сам работал начальником физлаборатории. Орлов, Ситников (оба погибли) тоже оттуда. И многие другие — друзья-товарищи по прежней работе... Бывал Дятлов несправедлив, даже подл. Перед пуском блока, в период монтажа и пусконаладки у меня была возможность съездить подучиться. „Тебе учиться нечего,— сказал мне Дятлов.— И так все знаешь. А они вот (двое других) пусть учатся. Они мало знают..." В итоге — мы тянули во время монтажа и пусконаладочных работ основной воз, а когда настало время раздавать должности и оклады, то большие оклады дали тем, кто учился. Когда я напомнил Дятлову об его обещании, он сказал:
— Они учились, а вы нет...
Общая тенденция на Чернобыльской АЭС до взрыва, которую четко проводил в жизнь Дятлов,— „дрючить" оперативный персонал смен, щадить и поощрять дневной (неоперативный) персонал цехов. Обычно больше аварий было в турбинном зале, меньше — в реакторном отделении. Отсюда размагниченное отношение к реактору. Мол, надежней, безопасней...»
В. Г. Смагин о Н. М. Фомине:
«Работоспособен, самолюбив, напорист, тщеславен, злопамятен, зол, иногда справедлив. Голос — приятный баритон, при волнении порою срывается на альт, но в основном переходит в красивый басок...»
Так вот — способен ли был Дятлов к мгновенной, единственно правильной оценке ситуации в момент ее перехода в аварию? Думаю, что не способен. Более того, в нем, видимо, не был в достаточной степени развит необходимый запас осторожности и чувства опасности, столь нужных руководителю атомных операторов. Зато самонадеянности, неуважения к операторам и технологическому регламенту — хоть отбавляй...
Именно эти качества развернулись в Дятлове в полную силу, когда при отключении системы локального автоматического регулирования (ЛАР) старший инженер управления реактором (СИУР) Леонид Топтунов не сумел удержать реактор на мощности 1500 МВт и «упал» до 30 МВт тепловых.
Топтунов совершил грубую ошибку. При такой малой мощности начинается интенсивное отравление реактора продуктами распада (ксенон, йод). Восстановление параметров становится затрудненным или даже невозможным. Все это означало: проведение эксперимента с выбегом ротора срывается, что сразу поняли все атомные операторы, в том числе СИУР Леонид Топтунов, начальник смены блока Александр Акимов. Понял это и заместитель главного инженера по эксплуатации Анатолий Дятлов.
В помещении блочного щита управления четвертого энергоблока создалась довольно-таки драматическая ситуация. Обычно замедленный Дятлов с несвойственной ему прытью забегал вокруг панелей пульта операторов, изрыгая матюки и проклятия. Сиплый тихий голос его обрел теперь гневное металлическое звучание.
— Японские караси! Не умеете! Бездарно провалились! Срываете эксперимент! Мать вашу перемать!
Гнев его можно было понять. Реактор отравляется продуктами распада. Надо или немедленно поднимать мощность, или ждать сутки, пока он разотравится. И надо было ждать... Ах, Дятлов, Дятлов! Не учел ты, что отравление активной зоны идет быстрее, чем ты предполагал. Остановись! Может, и минет человечество Чернобыльская катастрофа...
Но он не желал останавливаться. Метая громы и молнии, носился по помещению блочного щита управления и терял драгоценные минуты. Надо же немедленно поднимать мощность!
Но Дятлов продолжал разряжаться.
СИУР Леонид Топтунов и начальник смены блока Акимов задумались, и было над чем. Дело в том, что падение мощности до столь низких значений произошло с уровня 1500 МВт, то есть с 50-процентной величины. Оперативный запас реактивности при этом составлял 28 стержней (то есть 28 стержней были погружены в активную зону). Восстановление параметров еще было возможно... Технологический регламент запрещал подъем мощности, если падение происходило с 80-процентной величины при том же запасе реактивности, ибо отравление в этом случае идет более интенсивно. Но уж больно близки были значения 80 и 50 процентов. Время шло, реактор отравлялся. Дятлов продолжал браниться. Топтунов бездействовал. Ему было ясно, что подняться до прежнего уровня мощности, то есть до 50 процентов, ему вряд ли удастся, а если и удастся, то с резким уменьшением числа погруженных в зону стержней, что требовало немедленной остановки реактора. Стало быть... Топтунов принял единственно правильное решение.
— Я подниматься не буду! — твердо сказал Топтунов. Акимов поддержал его. Оба изложили свои опасения Дятлову.
— Что ты брешешь, японский карась! — накинулся Дятлов на Топтунова,— После падения с 80 процентов по регламенту разрешается подъем через сутки, а ты упал с 50 процентов! Регламент не запрещает. А не будете подниматься, Трегуб поднимется...—Это была уже психическая атака (Юрий Трегуб—начальник смены блока, сдавший смену Акимову и оставшийся посмотреть, как идут испытания, был рядом). Неизвестно, правда, согласился бы он поднимать мощность. Но Дятлов рассчитал правильно, Леонид Топтунов испугался окрика начальства, изменил своему профессиональному чутью. Молод, конечно, всего 26 лет от роду, неопытен. Эх, Топтунов, Топтунов... Но он уже прикидывал:
«Оперативный запас реактивности 28 стержней... Чтобы компенсировать отравление, придется подвыдернуть еще пять-семь стержней из группы запаса... Может, проскочу... Ослушаюсь—уволят...» (Топтунов рассказал об этом в Припятской медсанчасти незадолго до отправки в Москву.)
Леонид Топтунов начал подъем мощности, тем самым подписав смертный приговор себе и многим своим товарищам. Под этим символическим приговором четко видны также подписи Дятлова и Фомина. Разборчиво видна подпись Брюханова и многих других, более высокопоставленных товарищей...
И все же, справедливости ради, надо сказать, что смертный приговор был предопределен в некоторой степени и самой конструкцией реактора типа РБМК. Нужно было только обеспечить стечение обстоятельств, при которых возможен взрыв. И это было сделано...
Но мы забегаем несколько вперед. Было, было еще время одуматься. Но Топтунов продолжал подъем мощности реактора. Только к 1 часу 00 минут 26 апреля 1986 года ее удалось стабилизировать на уровне 200 МВт тепловых. В этот период продолжалось отравление реактора продуктами распада, дальнейший подъем мощности был затруднен из-за малого оперативного запаса реактивности, который к тому моменту был гораздо ниже регламентного. (По отчету СССР в МАГАТЭ он составлял 6—8 стержней, по заявлению умирающего Топтунова, который смотрел распечатку машины «Скала» за семь минут до взрыва,— 18 стержней.)
Чтобы читателю было понятно, напомню, что под оперативным запасом реактивности понимается определенное число погруженных в активную зону поглощающих стержней, находящихся в области высокой дифференциальной эффективности. (Он определяется пересчетом на полностью погруженные стержни.) Для реактора типа РБМК оперативный запас реактивности принят 30 стержней. При этом скорость ввода отрицательной реактивности при срабатывании аварийной защиты реактора (АЗ) составляет 1в (одну бету) в секунду, что достаточно для компенсации положительных эффектов реактивности при нормальной работе реактора.
Надо сказать, что, отвечая на мои вопросы, начальник смены блока № 4 ЧАЭС В. Г. Смагин рассказал, что минимально допустимое регламентное значение оперативного запаса реактивности реактора 4-го блока составляло 16 стержней. Реально же, как сообщил А. С. Дятлов в своем письме уже из мест заключения, на момент нажатия кнопки «АЗ» — было 12 стержней.
Качественной картины эти сведения не изменяют: реальный оперативный запас реактивности был ниже регламентного. Сам же технологический регламент, испачканный радиоактивностью, был доставлен в Москву, в комиссию по расследованию аварии, и 16 стержней в регламенте обернулись тридцатью стержнями в отчете СССР в МАГАТЭ. Не исключено также, что в регламенте число стержней оперативного запаса реактивности, вопреки рекомендации Института атомной энергии имени И. В. Курчатова, было занижено с 30 до 16 стержней на самой электростанции, что позволяло операторам манипулировать большим количеством стержней регулирования. Возможности по управлению в этом случае вроде бы расширяются, однако вероятность перехода реактора в нестабильное состояние резко возрастает...
Но вернемся к нашему анализу.
Фактически оперативный запас реактивности составлял 6—8 стержней по отчету в МАГАТЭ и 18 стержней по свидетельству Топтунова, что значительно снижало эффективность аварийной защиты реактора, который стал в силу этого малоуправляемым.
Объясняется это тем, что Топтунов, выходя из «йодной ямы», извлек несколько стержней из группы неприкосновенного запаса...
И все же испытания решено было продолжить, хотя реактор был уже фактически малоуправляемым. Видимо, велика была уверенность старшего инженера управления реактором Топтунова и начальника смены блока Акимова — главных ответственных за ядерную безопасность реактора и АЭС в целом. Правда, у них были сомнения, были попытки неподчинения Дятлову в роковой момент принятия решения, но все же главным на фоне всего этого была прочная внутренняя уверенность в успехе. Надежда на то, что не подведет и на этот раз выручит реактор. Была тут, как я уже говорил, и инерция привычного конформистского мышления. Ведь за 35 минувших лет аварий на АЭС, носящих глобальный характер, не было. А о тех, что были, никто и слыхом не слыхивал. Всее тщательно скрывалось. Отсутствовал у ребят негативный опыт минувшего. Да и сами операторы были молоды и недостаточно бдительны. Но не только Топтунов и Акимов (они заступили в ночь), но и операторы всех предшествующих смен 25 апреля 1986 года не проявили должной ответственности и с легкой душой пошли на грубое нарушение технологического регламента и правил ядерной безопасности.
Действительно, нужно было полностью потерять чувство опасности, забыть, что главным на АЭС является атомный реактор, его активная зона. Основным мотивом в поведении персонала было стремление быстрее закончить испытания. Я бы сказал, что здесь не было и должной любви к своему делу, ибо таковая обязательно предполагает глубокую вдумчивость, подлинный профессионализм и бдительность. Без этого за управление столь опасным устройством, как атомный реактор, лучше не браться.
Нарушения установленного порядка при подготовке и проведении испытаний, небрежность в управлении реакторной установкой — все это говорит о том, что операторы неглубоко понимали особенность технологических процессов, протекающих в ядерном реакторе. Не все, видимо, представляли специфику конструкции поглощающих стержней...
До взрыва оставалось двадцать четыре минуты пятьдесят восемь секунд...
Подытожим грубейшие нарушения, как заложенные в программу, так и допущенные в процессе подготовки и проведения испытаний:
— стремясь выйти из «йодной ямы», снизили оперативный запас реактивности ниже допустимой величины, сделав тем самым аварийную защиту реактора неэффективной;
— ошибочно отключили систему ЛАР, что привело к провалу мощности реактора ниже предусмотренного программой; реактор оказался в трудноуправляемом состоянии;
— подключили к реактору все восемь главных цирк-насосов (ГЦН) с аварийным превышением расходов по отдельным ГЦН, что сделало температуру теплоносителя близкой к температуре насыщения (выполнение требований программы);
— намереваясь при необходимости повторить эксперимент с обесточиванием, заблокировали защиты реактора по сигналу остановки аппарата при отключении двух турбин;
— заблокировали защиты по уровню воды и давлению пара в барабанах-сепараторах, стремясь провести испытания, несмотря на неустойчивую работу реактора. Защита по тепловым параметрам была отключена;
— отключили системы защиты от максимальной проектной аварии, стремясь избежать ложного срабатывания САОР во время проведения испытаний, тем самым потеряв возможность снизить масштабы вероятной аварии;
— заблокировали оба аварийных дизель-генератора а также рабочий и пуско-резервный трансформаторы, отключив блок от источников аварийного электропитания и от энергосистемы, стремясь провести «чистый опыт», а фактически завершив цепь предпосылок для предельной ядерной катастрофы...
Все перечисленное обретало еще более зловещую окраску на фоне ряда неблагоприятных нейтронно-физических параметров реактора РБМК, имеющего положительный паровой эффект реактивности 2в (две беты), положительный температурный эффект реактивности, а также порочную конструкцию поглощающих стержней системы управления защитой реактора (сокращенно СУЗ).
Дело в том, что при высоте активной зоны, равной семи метрам, поглощающая часть стержня имела длину пять метров, а ниже и выше поглощающей части находились метровой длины полые участки. Нижний же концевик поглощающего стержня, уходящий при полном погружении ниже активной зоны, заполнен графитом. При такой конструкции находящиеся вверху стержни регулирования при вводе их в реактор входят в активную зону вначале нижним графитовым концевиком, затем в зону попадает пустотелый метровый участок и только после этого поглощающая часть. Всего на Чернобыльском 4-м энергоблоке 211 поглощающих стержней. По данным отчета СССР в МАГАТЭ — 205 стержней находились в крайнем верхнем положении, по свидетельству СИУРа Топтунова вверху находилось 193 стержня. Одновременное введение такого количества стержней в активную зону дает в первый момент всплеск положительной реактивности из-за обезвоживания каналов СУЗ, поскольку в зону вначале входят графитовые концевики (длина 5 метров) и пустотелые участки метровой длины, вытесняющие воду. Всплеск реактивности достигает при этом половины беты и при стабильном, управляемом реакторе не страшен. Однако при совпадении неблагоприятных факторов эта добавка может оказаться роковой, ибо потянет за собой неуправляемый разгон.
Возникает вопрос: знали об этом операторы или находились в святом неведении? Думаю, отчасти знали. Во всяком случае, обязаны были знать. СИУР Леонид Топтунов в особенности. Но он молодой специалист, знания не вошли еще в плоть и кровь...
А вот начальник смены блока Александр Акимов мог я не знать, потому что СИУРом никогда не работал. Но конструкцию реактора он изучал, сдавал экзамены на рабочее место. Впрочем, эта тонкость в конструкции поглощающего стержня могла пройти мимо сознания всех операторов, ибо впрямую не связывалась с опасностью для жизни людей. А ведь именно в образе этой конструкции и притаились до времени смерть и ужас Чернобыльской ядерной катастрофы.
Думаю также, что вчерне конструкцию стержня представляли Брюханов, Фомин и Дятлов, не говоря уже о конструкторах-разработчиках реактора, но вот не подумали, что будущий взрыв спрятался в каких-то концевых участках поглощающих стержней, которые являются наиглавнейшей системой защиты ядерного реактора. Убило то, что должно было защитить, потому и не ждали отсюда смерти...
Но ведь конструировать реакторы надо так, чтобы они при непредвиденных разгонах самозатухали. Это правило — святая святых конструирования ядерных управляемых устройств. И надо сказать, что водо-водяной реактор Нововоронежского типа отвечает этим требованиям.
Да, ни Брюханов, ни Фомин, ни Дятлов не довели до своего сознания возможность такого развития событий. А ведь за десять лет эксплуатации АЭС можно дважды закончить физико-технический институт и до тонкостей освоить ядерную физику. Но это в случае, если по-настоящему изучать и болеть душой за дело, а не почивать на лаврах...
Тут читателю надо коротко пояснить, что атомным реактором возможно управлять только благодаря доле запаздывающих нейтронов, которая обозначается греческой буквой в (бета). По правилам ядерной безопасности скорость увеличения реактивности безопасна при 0,0065 в, эффективное в каждые 60 секунд. При избыточной реактивности, равной уже 0,5 в, начинается разгон на мгновенных нейтронах...
Те же нарушения регламента и защит реактора со стороны оперативного персонала, о которых я говорил выше, грозили высвобождением реактивности, равной по меньшей мере 5 в, что означало фатальный взрывной разгон.
Представляли всю эту цепочку Брюханов, Фомин, Дятлов, Акимов, Топтунов? Первые двое наверняка всей этой цепочки не представляли. Последние трое — теоретически должны были знать, практически, думаю, нет, что подтверждают их безответственные действия.
Акимов же вплоть до самой смерти 11 мая 1986 года повторял, пока мог говорить, одну мучившую его мысль:
— Я все делал правильно. Не понимаю, почему так произошло.
Все что говорит еще и о том, что противоаварийные тренировки на АЭС, теоретическая и практическая подготовка персонала велись из рук вон плохо, и в основном в пределах примитивного управленческого алгоритма, не учитывающего глубинные процессы в активной зоне атомного реактора в каждый данный оперативный отрезок времени.
Возникает вопрос — как же докатились до такой размагниченности, до такой преступной халатности? Кто и когда заложил в программу нашей судьбы возможность ядерной катастрофы в Белорусско-Украинском Полесье? Почему именно уран-графитовый реактор был выбран к установке в 130 километрах от столицы Украины Киева?
Вернемся на пятнадцать лет назад, в октябрь 1972 года, когда я работал заместителем главного инженера на Чернобыльской атомной станции. Уже в то время у многих возникали подобные вопросы.
В один из дней октября 1972 года мы с Брюхановым поехали на газике в Киев по вызову тогдашнего министра энергетики Украинской ССР А. Н. Макухина, который и выдвинул Брюханова на пост директора Чернобыльской АЭС. Сам Макухин по образованию и опыту работы — теплоэнергетик.
По дороге в Киев Брюханов сказал мне:
— Не возражаешь, если выкроим часок-другой, прочтешь министру и его замам лекцию об атомной энергетике, о конструкции ядерного реактора? Постарайся популярнее, а то они, как и я, в атомных станциях мало понимают...
— С удовольствием,— ответил я.
Министр энергетики Украинской ССР Алексей Наумович Макухин держался очень начальственно. Каменное выражение на прямоугольном лице отпугивало. Говорил отрывисто. Речь самоуверенного прораба.
Я рассказал собравшимся об устройстве Чернобыльского реактора, о компоновке атомной станции и об особенностях АЭС данного типа.
Помню, Макухин спросил:
— На ваш взгляд, реактор выбран удачно или..? Я имею в виду — рядом все же Киев...
— Мне думается,— ответил я,— для Чернобыльской АЭС больше подошел бы не уран-графитовый, а водо-водяной реактор Нововоронежского типа. Двухконтурная станция чище, меньше протяженность трубопроводных коммуникаций, меньше активность выбросов. Словом, безопасней...
— А вы знакомы с доводами академика Доллежаля? Он ведь не советует выдвигать реакторы РБМК в Европейскую часть страны... Но вот что-то неотчетливо аргументирует этот свой тезис. Вы читали его заключение?
— Читал... Ну что я могу сказать... Доллежаль прав. Выдвигать не стоит. У этих реакторов большой сибирский опыт работы. Они там зарекомендовали себя, если можно так выразиться, с «грязной стороны». Это серьезный аргумент...
— А почему же Доллежаль не проявил настойчивость в отстаивании своей идеи? — спросил Макухин.
— Не знаю, Алексей Наумович,—развел я руками,— видимо, нашлись силы помощнее академика Доллежаля...
— А какие же у Чернобыльского реактора проектные выбросы? — уже озабоченней спросил Макухин.
— До четырех тысяч кюри в сутки.
— А у Нововоронежского?
— До ста кюри в сутки. Разница существенная.
— Но ведь академики... Применение этого реактора утверждено Совмином... Анатолий Петрович Александров хвалит этот реактор как наиболее безопасный и экономичный. Вы, товарищ Медведев, сгустили краски. Но ничего... Освоим... Не боги горшки обжигают... Эксплуатационникам и предстоит организовать дело так, чтобы наш первый украинский реактор был чище и безопасней Нововоронежского...
В 1982 году А. Н. Макухин был переведен на работу в центральный аппарат Минэнерго СССР на должность первого заместителя министра по эксплуатации электростанций и сетей.
14 августа 1986 года, уже по итогам Чернобыльской катастрофы, решением Комитета партийного контроля при ЦК КПСС за непринятие должных мер по повышению надежности эксплуатации Чернобыльской АЭС первому заместителю министра энергетики и электрификации СССР А. Н. Макухину был объявлен строгий партийный выговор без снятия с работы.
А ведь еще тогда, в 1972 году, можно было сменить тип Чернобыльского реактора на водо-водяной и тем самым резко уменьшить возможность того, что случилось в апреле 1986 года. И слово министра энергетики УССР было бы здесь не последним.
Следует упомянуть еще об одном характерном эпизоде. В декабре 1979 года, уже работая в Москве, в атомостроительном объединении Союзатомэнергострой, я выехал с инспекционной поездкой на Чернобыльскую АЭС для контроля хода строительства 3-го энергоблока.
В работе совещания атомостроителей принимал участие тогдашний первый секретарь Киевского обкома КПУ Владимир Михайлович Цыбулько. Он долго молчал, внимательно слушая выступавших, затем сам выступил с речью. Его обожженное лицо со следами келлоидных рубцов (во время войны он был танкистом и горел в танке) густо покраснело. Он смотрел в пространство перед собой, не останавливая взгляд на ком-либо, и говорил тоном человека, не привыкшего к возражениям. Но в голосе его проскакивали и отеческие нотки, нотки заботы и добрых пожеланий. Я слушал и невольно думал о том, как легко непрофессионалы в атомной энергетике готовы разглагольствовать о сложнейших вопросах, природа которых им неясна, готовы давать рекомендации и «управлять» процессом, в котором ровным счетом ничего не смыслят.
— Посмотрите, товарищи, какой прекрасный город Припять, глаз радуется,— сказал первый секретарь Киевского обкома, делая частые паузы (перед тем речь на совещании шла о ходе строительства третьего энергоблока и о перспективах строительства всей АЭС).—Вы говорите — четыре энергоблока. А я скажу так — мало! Я бы построил здесь восемь, двенадцать, а то и все двадцать атомных энергоблоков!.. А что?! И город вымахнет до ста тысяч человек. Не город, а сказка... Вы имеете прекрасный обкатанный коллектив атомных строителей и монтажников. Чем открывать площадку на новом месте, давайте строить здесь...
Во время одной из его пауз кто-то из проектировщиков вклинился и сказал, что чрезмерное скопление в одном месте большого числа атомных активных зон чревато серьезными последствиями, ибо снижает ядерную безопасность государства как в случае военного конфликта и нападения на атомные станции, так и в случае предельной ядерной аварии...
Дельная реплика осталась незамеченной, зато предложение товарища Цыбулько было подхвачено с энтузиазмом как директивное указание.
Вскоре началось строительство третьей очереди Чернобыльской АЭС, приступили к проектированию четвертой...
Однако 26 апреля 1986 года было не за горами, и взрыв атомного реактора четвертого энергоблока одним махом вырубил из единой энергосистемы страны четыре миллиона киловатт установленной мощности и прекратил строительство пятого энергоблока, ввод которого был реален в 1986 году.
Теперь представим, что мечта В. М. Цыбулько была бы осуществлена. Если бы это случилось, то 26 апреля 1986 года все двенадцать энергоблоков были бы выбиты из энергосистемы на длительный срок, обезлюдел бы город со стотысячным населением и ущерб государству исчислялся бы не восемью, а как минимум двадцатью миллиардами рублей.
Следует также упомянуть, что взорвался энергоблок № 4, спроектированный Гидропроектом, с расположением взрывоопасного прочно-плотного бокса и бассейна-барбатера под атомным реактором. В свое время, будучи председателем экспертной комиссии по этому проекту, я категорически возражал против такой компоновки и предлагал непременно убрать взрывоопасное устройство из-под реактора. Однако мнение экспертизы было тогда проигнорировано. Как показала жизнь, взрыв произошел как в самом реакторе, так и в прочно-плотном боксе...[Подробно об экспертизе этого проекта я рассказал в своей повести «Экспертиза», опубликованной в советско-болгарском журнале «Дружба» за 1986 год, № 6.]
Продолжение следует...
Вернуться назад